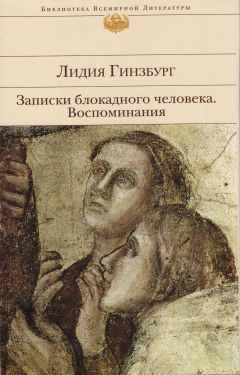— Простите…
Крейн столкнулся с женщиной, почти бежавшей навстречу. Она была в легком платье в этот холодный вечер и только плечи и голову кутала в шаль, как будто знакомую Крейну. Женщина раздвинула концы шали.
— Молли, вы?
Молли еще похудела. Крейн разглядел сухие губы и беспокойные глаза.
— Вы?.. — сказала Молли без всякого оттенка удовольствия, — откуда?
— Прямо из Денвера. И вот… — Крейн развел руками.
— Вы знаете все?
— Несчастие с вашим отцом…
— Это совсем не несчастье, — с неприязнью сказала Молли. — Неужели вам нужно объяснять?.. Это большая радость, что он понял…
На слове «радость» Молли сжала рот, будто удерживая рыдание. Они смотрели друг на друга.
— Крейн, я не знаю… но раз я вас встретила… — И вдруг бесповоротно: — Вы пойдете со мной.
— Молли, куда?
— Молчите. Идите за мной. Молчите. Это страшно важно — то, куда мы идем.
Молли задернула концы шали, как занавеску. Крейн невольно сдвинул кепи на переносицу, и это движение напомнило ему ночь, когда в чужих комнатах и коридорах он искал Джима Хорти, именем закона..
Молли быстро вела Крейна зигзагами коротких, цепляющихся друг за друга переулков.
— Тише теперь… как можно тише… Дайте руку.
Тонкая, жесткая от работы, холодная от волнения рука
Молли взяла в темноте руку Крейна. Крейн довольно долго бился голенями о железные ступеньки; потом больно ударился о низкую притолоку головой.
— Как вы шумите! — сказала Молли с досадой.
Крейн скорее нащупал, чем разглядел характерный и неестественный беспорядок.
— А! Здесь был обыск…
Они спустились по двум или трем ступенькам куда-то, где стояли большие и непонятные в темноте предметы. Крейн водил по стене ладонью, отыскивая выключатель.
— Не надо, — сказала Молли. Она взяла Крейна за отвороты пальто. — Снимите.
Пальто Крейна повисло на оконной раме. Молли бросила на лампу темную шаль.
— Зажгите.
Они находились в небольшой типографии.
— «Виктор рекорд», — сказала Молли, осматриваясь, — как раз сегодня получил письмо Хейвуда из тюрьмы.
— Что здесь готовится, Молли?
— Здесь?.. Готовится номер «Рекорда», Крейн. Вы и я приготовим этот номер сегодня ночью, потому что наборщики разбежались. Я умею… немного.
— Бог мой!
Наборная касса покато стояла под лампой. В глубоких деревянных гнездах темнел спутанный шрифт.
Молли вложила верстатку в левую руку Крейна.
— Сверху большим пальцем, — вот так, — вы придерживаете подвижную стенку. Наш «Рекорд» будет в одну страницу и с ужасными опечатками, Крейн! Большим и указательным пальцем правой руки наборщик выбирает нужную литеру….
Крейн понял. Большим и указательным пальцем правой руки он ставил литеры справа налево. Готовую строку он выравнивал наборной линейкой. Десять-двенадцать набранных строк осторожно переносил на наборную доску. Они работали рядом. Молли поправляла, сердилась или кивала головой одобрительно. Они набирали письмо Хейвуда из тюрьмы:
Тюрьма графства Ада. Идаго, Бонз, 1 июля 1905 г.
Товарищи и братья-рабочие!
«Помните: вы работаете по двенадцати часов под землей, среди воды и динамитного дыма; в камерах таких низких, что двенадцать часов подряд нельзя выпрямить спину, таких тесных, что приходится держать лопату между ногами. Десятки лет вы работаете, подстерегаемые чахоткой и воспалением легких, взрывом, обвалом, наводнением, пожаром и смертью от электрического тока.
Помните: рабочие спят вчетвером на одной кровати и никогда не наедаются досыта, а фабриканты, одуревшие от барышей, советуют им откладывать сбережения.
Не верьте никому. Собственность, которую защищают суды, — это собственность богатых; жизнь, которую они охраняют, — это жизнь штрейкбрехеров; мир, который поддерживают войска, — это мир барышников.
Последние судебные запрещения предусматривают число стачечников, стоящих у каждой двери завода. Видал ли кто-нибудь судебный приказ, предписывающий хозяевам, сколько им выставлять стражников или скэбов? Или судебный запрет скэбам и стражникам запугивать, оскорблять, убивать рабочих? Нет речи о том, где и в каком количестве должны стоять полицейские, когда они в нас стреляют.
Братья, я напоминаю вам о ненависти, — это все, что я могу сейчас для вас сделать. Боритесь; потому что вы не владеете здесь ничем, кроме вашей шкуры: все остальное в этом городе — и методистско-епископальная церковь в том числе — принадлежит Компании топлива и железа.
Билль Хейвуд».
— Молли, профессиональный наборщик делает пятнадцать букв в минуту. Кажется, я дошел до четырех.
— Хорошо. Я закончу одна.
— Молли?!
— Не спорьте. Мангой придет, если его не схватили. Он поможет. Вам надо идти.
Молли осторожно раздвинула полы пальто, висевшего на окне. Крейн под ее рукой наклонился к тонкой суконной щели.
— Смотрите, налево река… Видите, блеснуло. Еще раз… Крейн, они возвращаются.
— Возвращаются?
— Высланные. Многие решили вернуться, потому что сегодня будто бы уходят войска. Вот… вот… опять. Минуя заставу, понимаете… они спускаются в лодках. Если здесь неспокойно, вы остановите передовых. Вас знают. Идите.
Крейн оглянулся медленно, как человек, который хочет запомнить надолго то, что он видит сейчас. Под обвисшими крыльями шали горела лампа. Наборные доски лежали, залитые до краев тускло лоснящимся шрифтом; руки и волосы Молли были испачканы краской.
— Крейн, — сказала вдруг Молли, — вы из Денвера… Как вам кажется… этот процесс?..
— Молли, — сказал Крейн очень мягко, — право, у них не будет серьезных улик против Джима…
Молли быстро сдвинула брови.
— Я не спрашивала об этом.
Она опять смотрела враждебно.
— Вы еще раз не поняли. О, мне казалось всегда, что вам не хватает чего-то, или что-то в вас лишнее…
«Лишнее — это, должно быть, голубая карточка», — с насмешкой подумал Крейн. Он был раздражен. Он ушел молча, без пальто. Пальто, печально уронив рукава, качалось на окне «Виктор рекорда».
* * *
Площадь выглядела необычайно: между редкими деревьями и редкими фонарями люди стояли сплошной и тихой массой. Под фонарем Чарльз О’Нейл в коротком пальто раскуривал сигару. Спичка слабо полыхала у рта за темным щитком затянутой в перчатку ладони.
— Поймали… Крайне подозрительная личность, сэр, пробиравшаяся вдоль забора.
Кто-то больно ударил Крейна между лопатками и кто-то подставил ногу. Крейн споткнулся, его на лету подхватили за воротник и, встряхнув, поставили прямо.
О'Нейл рассмеялся сухо.
— Ах, вот кто… Мой дорогой, зачем вы пробираетесь вдоль заборов?
— К черту заборы! — Крейн был положительно груб. Эта цепь беспокойных случайностей страшно взвинтила его нервы, — лучше б они оставили заборы в покое и… и прогулялись к реке…
— Что такое?
— Ничего. Рудокопы возвращаются в лодках. Они вам закатят еще одну стачку за спиной генерала Белла.
Кажется, Крейн ничего не имел против этих рудокопов… Но не может же он молчать, когда его тащат по площади, как бродягу!
— Вы слышите, Веллс? — сказал О'Нейл в темноту. — Прекрасно, Крейн, прекрасно.
— Сэр, — Крейн смягчился, — я полагаю, это…
— …Отнюдь не наемные бандиты, Крейн. О, нет! Это, — О’Нейл повел рукой, — напротив того, Союз граждан, то есть сто человек деловых людей, вооруженных до зубов и разделенных на взводы: например взвод Балкелея Веллса, управляющего копи «Смоглер», или взвод Антуана Герро-на, директора Людвильского банка…
Веллс, широкий, со сплющенным профилем профессионального боксера, появился под фонарем.
— Парень, кажется, прав. Разрешите четыре взвода к реке. Остальные займутся здесь.
О’Нейл на ходу обернулся к Крейну.
— Пока что берите ружье. Размяться перед сном — прекрасно!
У О’Нейла помолодел от удовольствия голос.
Слова команды выговаривались неслышно. Не было прямолинейных движений и военных отчетливых поворотов. Толпа на площади, как неживая, мягко разваливалась на куски. Взводы, сливаясь, спускались к реке; другие уходили в короткие радиусы улиц. Взвод Балкелея Веллса, управляющего копи «Смоглер», прошествовал мимо Крейна к низким деревянным домам на южной стороне площади. От взвода отпадали куски, прилипая попутно к крыльцу, к дверям и окнам низких домов.
Крейн остался у фонаря. Теперь он слушал, вытянув шею.
Оконная рама загремела под тяжелой рукой; двери трещали и стонали; за дверьми что-то падало и что-то катилось. Ни одного человеческого крика среди деревянных, стеклянных и металлических шумов. Казалось, бесполезную способность стонать и сопротивляться люди уступили неодушевленным предметам.
![Лидия Гинзбург - Агентство Пинкертона [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/141514/141514.jpg)